
Литературный журнал "Вырицкий ларец"
Издание Симо-Барановского, выпуск 2/2015

Слово редактора.
Что примечательно, слова «Христос Воскресе», - всегда звучали в дачной местности лучше, чем «Ленин жив». Хотя странно, как даже людей образованных тянет этим лже-символом прикрыть свою партийную суету, а Вырица сейчас партийна, как некогда. Появился даже: «Вырицкий комитет по местному самоуправлению межнациональными и межконфессиональными отношениям». Что это по сути составленных слов, никакой раввин не разберет. Мы же и без мафиозной копеечки продолжаем тянуть литературную лямку, и нам приятно, что публика нам шлет и пишет. Вот и недавно, при сносе очередной дачи обнаружился целый сундук с вырицкими документами, в частности Казанской церкви с 1948 по 1971 гг., которые нам доверили к печати. Повседневная жизнь столь значимой для нас церкви, настолько раскрыта в них в непростые годы, что мы будем периодически их публиковать, а что-то оставим другому поколению.
В альманахе мы не можем обойтись без стихов и предлагаем в этом выпуске известного всей Вырице Антонова, поэма которого была написана к столетию Ивана Ефремова и можно, наконец к его дню рождения в апреле ее привесть.
Также, с учетом именин сердца в апреле и в мае, мы публикуем ее один рассказ Слезкина, посвященный Первой Мировой войне. Отмечать ее в Вырице фактически не разрешили, несмотря на просьбу Президента. Но мы продолжаем составлять маленькую портретную галерею жителей войны и уже нашли полного георгиевского кавалера, трагически погибшего здесь в 1919 г. как христианина высокой души. Вот о чем надо писать местным богословам, а не песнопения воротилам современной жизни. Но и мы не будем переставать кадить блаженным и старорежимным. Свой же патриотический долг, однако, выполним в мае, добавив несколько мемуаров про войну. В какой-то степени выходящая отдельным приложением монография «Вырица с мольбертом» будет посвящена вырицким дачникам-художникам, из которых мы сердечно поздравляем с 70-летием Победы фронтовика – Б.П.Николаева. С 1939 года Борис Павлович пишет Поселок и Красницы и мастерство его не ослабевает.

Содержание
Куровицкие были и небылицы. АНДРЕЙ БУРЛАКОВ
Святая Радость. ЮРИЙ СЛЁЗКИН
Трезвость. ВОСПОМИНАНИЯ Е.А. ЕРМОЛОВОЙ
Иван Ефремов. Поэма. ЮРИЙ АНТОНОВ
К Юбилею Вырицкой Казанской церкви. Документы
Статья из газеты "Уездные вести".
Воспоминания. ДМИТРИЙ СИМО

Андрей Бурлаков
Куровицкие были и небылицы

По дороге из Гатчины на Вырицу расположена старинная деревня Куровицы, ведущая свою историю, примерно, с XI столетия. Этим периодом датируются археологические находки местных курганов, обнаруженные во время раскопок в 1874 году и хранящиеся сейчас в фондах Государственного исторического музея в Москве. В 1984 году группой ленинградских археологов было обследовано и зафиксировано 8 курганных насыпей высотой 0,2 – 0,8 метра и диаметром 3,5 – 8 метров с каменными обкладками в основании. Все курганы находились на территории Куровицкого кладбища. Впоследствии на рубеже веков хорошо заметные следы древних захоронений были снесены в связи с расширением кладбища.
Название деревни впервые зафиксировано в Новгородской писцовой книге 1500 года. Среди сел и деревень переписной оброчной книги, входящих в состав Никольского Суйдовского погоста Водской пятины Великого Новгорода здесь упоминается «село Куровичи».[1] Это был довольно крупный по тем временам населенный пункт, включающий 39 крестьянских дворов. Куровичи, позднее через несколько веков ставшие Куровицами, были приписаны к приходу центральной погостинской Никольской церкви. Этот храм, считавшийся одновременно и монастырским, располагался при женском монастыре, существовавшем во времена средневековья в окрестностях Суйды. «А на погосте монастырек, - сообщалось в писцовой книге, - а в нем церковь Великий Никола, а живут в том монастыре черницы».[2]
До присоединения новгородской земли к Московскому княжеству (1478 год) Куровицы считались «владычным» селом, т.е. принадлежали новгородскому владыке. На момент присоединения владельцем села состоял архиепископ Новгородский и Псковский Геннадий Гонзов (1410-1506 гг.) – настоящий подвижник своего Отечества, активно способствующий укреплению православия на Руси. Именно он первым собрал и составил единый свод славянской Библии, владыка являлся также автором практического пособия по богослужению «Церкви Божии правительник вкратце».
Присоединяя Новгород к Москве, царь Иван III обещал духовным лидерам не трогать и не отнимать церковных и монастырских земель, но слова своего не сдержал. К 1500 году он насильственным способом изъял значительную часть земель, принадлежащую владыке Геннадию. Тогда же Куровицы перешли во владение Великого князя Московского и были отданы «детям боярским» в поместия.[3] Село было разделено сразу же между тремя владельцами: 18 крестьянских дворов было отдано Ноздрею Нелединскому и его детям; 11 дворов – Мешке и Якушу Елагиным; 10 дворов – Василию Годунову. В писцовой книге 1500 года подробно переписан каждый крестьянский двор куровицкого жителя. Вот этот список с сохранением орфографии того далекого времени:
-
Двор Онтошки Лентеева и сына его Игнашки;
-
Двор Данилки Олисеева и Сеньки Якушова;
-
Двор Демешки Матвейкина;
-
Двор Фомки кузнеца;
-
Двор Федки Минина;
-
Двор Марка Илейкина;
-
Двор Онтонки Илейкина;
-
Двор Гридки Ондрейкова;
-
Двор Оксенки Гридина;
-
Двор Максимки Демина;
-
Двор Селиванки Маркова;
-
Двор Яхни Гридина и сына его Матвейки;
-
Двор Гридки Ондрейкова Сокола;
-
Двор Данилки Олисеева и сына его Микитки;
-
Двор Лукьянки Оксенова;
-
Двор Фешки Ондрейкова;
-
Двор Оксенки Исакова и сына его Оксенки;
-
Двор Зиновки Якимова и сына его Дмитрока;
-
Двор Оброски Захарова;
-
Двор Олексейки Ерешина;
-
Двор Грихна Ивашова;
-
Двор Онашки Якушева;
-
Двор Фомки Гридина;
-
Двор Юшки Першина и сына его Якуша;
-
Двор Васки Трофимова;
-
Двор Трофимки Нифонтова и сына его Федки;
-
Двор Ермолки Юркина и сына его Сенки;
-
Двор Игнатки Ермолина;
-
Двор Тараски Ермолина;
-
Двор Якуша Микитина и сына его Нестерки;
-
Двор Филипки Чюрилова и сына его Мишука;
-
Двор Игната Гришина;
-
Двор Федки Андрейкова;
-
Двор Трофимки Федкова;
-
Двор Олушки Онкифова;
-
Двор Микитки Сенкина и зятя его Ивашки Андрейкова;
-
Двор Васки Михалова;
-
Двор Михалки Захарова;
-
Двор Васки Филипова.
Интересно отметить, что ближайшая к Куровицам крупная помещичья усадьба располагалась в селе Суйда. Она принадлежала боярам, братьям Андрею Семеновичу и Федору Семеновичу Колычевым. Здесь же находились и монастырские владения.
Из куровицких владельцев ближе всех к селению проживали помещики Мешка и Якуш Елагины. Их центральное поместье «большой двор» располагался на территории современного села Введенское, за Вырицей, при впадении реки Суйда в Оредеж. [4] В писцовой книге упоминается старинное название этого селения – деревня «Устень на реце Аредежи».[5] Помимо помещичьего двора здесь обозначен и крестьянский двор, в котором проживали «люди их Яшко да Иванко».[6]
Следов далекой древности в Куровицах уже давно не сохранилось. Однако еще столетие назад на местном кладбище существовали несколько каменных крестов относящихся, по-видимому, к эпохе средневековья. Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии, изданные в 1884 году, публикуя исторический очерк о церкви Воскресения Христова в Суйде, сообщали:
«В приходе – два старинных кладбища. Одно, в деревне Куровицы, обнесенное валом. Там есть каменные кресты; другое – на поле, близ Суйды, ничем не огражденное. Тут, говорят, был когда-то манастырек с церковью Св. Николая….»[7]
По рассказу старейшей жительницы деревни Куровицы Елены Михайловны Тимофеевой (1916-2005гг.), со слов ее деда Марка Ерофеева и прадеда Ерофея Михайлова, на местном кладбище в дореволюционный период находилось не менее семи каменных крестов, наполовину вросших в землю и сильно покосившихся от времени. По воспоминаниям выше перечисленных куровицких крестьян эти кресты были заложены в основание фундамента деревенской часовни построенной в 1900-х годах и сохранившейся до настоящего времени.
Каким-то чудом Куровицы не затерялись, не исчезли с лица земли во времена шведского господства, как случилось с некоторыми населенными пунктами оредежского края. По условиям Столбовского мирного договора 1617 года эта земля перешла под юрисдикцию Швеции и стала называться Ингерманландией. Деревня Kurowits обозначена на шведских географических картах XVII столетия, в числе других селений Суйдинского погоста. Наиболее полное представление о состоянии этого края дает Атлас сводных карт погостов 1679 года, хранящийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. [8] На месте Куровиц на карте обозначена помещичья усадьба, расположенная на территории современного въезда в деревню со стороны Кобрина. Отдельно обозначены три крестьянских двора стоящие в центральной части современной деревни. Куровицкие земли, как и территория всего Суйдинского погоста, с 1619 года принадлежала представителям старинного германского рода фон Роров. 6 марта 1628 года король Швеции Густав II Адольф своим указом утвердил пожалованную ранее мызу Swijdu (так в то время называлась Суйда) и принадлежавшие к ней вотчинные земли капитану Георгу фон Рору. Позднее он дослужился до чина подполковника и скончался в Суйде в 1632 году.
По наследству мыза перешла к его детям, двое из которых, сыновья: Иоаким Георг Фредрих фон Рор, скончавшийся в 1709 году и Ханс Кристофер фон Рор, погибший в сражении под Нарвой в 1700 году, имели непосредственное отношение к суйдинской вотчине.
В результате сражений одержанных Петром Великим в Северной войне за выход к Балтийскому морю, в начале XVIII века весь Приневский край был освобожден от шведов и возвращен России. Шведская мыза Куровицы благополучно пережившая эпоху военных баталий вскоре снова оживает и даже на некоторое время становится административным центром обширной местности. Бывшие ингерманландские земли царь щедро раздаривает своим ближайшим сподвижникам, видным государственным деятелям, родным и близким. Вокруг Петербурга появляются первые загородные усадьбы. Владелицей Гатчинской мызы становится любимая сестра Петра I – Наталья Алексеевна, Суйдинской – граф Петр Матвеевич Апраксин, Орлинской – Иван Нарышкин, Зареченской – светлейший князь Александр Меньшиков. В 1713 году Куровицкую мызу с 14 деревнями, включающими, в общей сложности, 97 крестьянских дворов Петр Великий дает во владение своему сыну царевичу Алексею.
Однако Куровицам не суждено было стать загородной усадьбой. В том же году центром своих владений он делает деревню Большую Грязну, расположенную на старой Новгородской дороге. Здесь по указанию Алексея, на берегу реки Оредеж возводится деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, по названию которой в 1713 году деревня Большая Грязна становится селом Рождественым.
Сохранившиеся указы и повеления первого хозяина куровицких земель отражают застойный патриархальный уклад жизни царевича, который был ревностным поборником допетровских порядков. Управителем Куровицкой мызы в 1714-1716 годах состоял Никита Козлов. Из С.-Петербурга ему часто поступали распоряжения Алексея различного хозяйственного характера. Вот, например, одно из них: «Никита Козлов. Для шествия Царского Величества поставь в Кипенскую мызу пять подвод с хомуты с санми сего генваря к 22 числу. Алексей. Санкт Питербурха 19 генваря 1714г». [9]
Во времена Алексея в Куровицах проживало несколько семей старообрядцев, поселившихся в этих местах еще в шведский период. Это были крестьяне-староверы, бежавшие на оредежские берега из соседнего Новгородского уезда. В начале XVIII столетия именно Куровицкая мыза с входившими в ее состав населенными пунктами считалась главным сосредоточением раскола в Копорском уезде С.-Петербургской губернии. Особенно много старообрядцев проживало в селе Рождествено.
Существует несколько версий повествующих о происхождении деревни. Уже упоминаемая Елена Михайловна Тимофеева (1916-2005гг.) со слов своих предков-старообрядцев вспоминала одну из легенд.
«До царя Петра I у Куровиц было другое название, и жили здесь одни староверы. Петр поселил в деревне неверных солдатских жен, которых в народе называли «курвами». Вот от этого и пошло потом название деревни».
Более правдоподобным может показаться рассказ другого куровицкого старожила – Василия Трофимовича Александрова, 1906 года рождения, записанный мною в 1991 году:
«В Куровицах Петр I повелел поселить крестьян-переселенцев, которые были необходимы для строительства Петербурга. Все они исповедовали старую веру и их называли раскольниками. Староверами были и мои предки.
Первым куровицким переселенцем стал Кузьма Болотный. Истоки деревни шведские. На месте кладбища раньше находились шведские захоронения. С тех времен за деревней сохранилась шведская могила – невысокий курган, на его вершине растет очень старая, большая сосна. Старики говорили, что ей уже двести лет».
В этих преданиях и отголосках старины глубокой можно найти немало любопытных краеведческих фактов, в которых реальность уже давно переплелась с вымыслом. Еще совсем недавно в полуверсте от Куровиц, на вырицкой стороне деревни, на горке росла древняя сосна. Она погибла от старости в конце XX века.


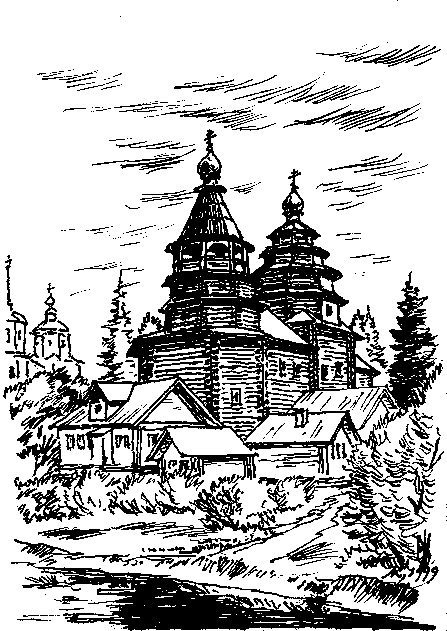
А как сложилась дальнейшая история куровицких земель? Трагическая судьба несчастного цесаревича, нелюбимого сына отца общеизвестна. Обвиненный в государственной измене в 1718 году царевич Алексей был приговорен к смертной казни. Владения покойного сына Петр I сначала приписал к его малолетним детям Натальи и Петру (будущему императору Петру II), но вскоре пожаловал их вдове своего старшего брата Ивана, скончавшегося в 1696 году – Прасковьи Федоровне, урожденной Салтыковой. В документах 1719 года Куровицкая мыза упоминается уже как вотчина царицы Прасковьи. Известно, что в ноябре следующего года была составлена перепись пожалованных «Парасковии» Федоровне земель, находящихся «в Куровицкой мызе, в селе Рожествене».[10] Меняется и куровицкий управитель – теперь это Трофим Пронин. После смерти царевны в 1723 году вотчина по наследству переходит к ее дочерям, племянницам Петра I: сначала к Прасковье, а затем, в связи с ее кончиной в 1731 году, к Екатерине.
Сохранившиеся документы повествуют о строгих нравах царственных наследниц. Так, при Прасковьи в 1725 году местные крестьяне ходили бить челом в Санкт-Петербург, «чтобы не брали с них пятый сноп». Последовавший на мызу ответ был короток: «Брать по-прежнему».[11] Особых доходов помещицам эти земли не приносили, слаборазвитое крепостное хозяйство часто давало сбои, а хлебопашество неоднократно страдало от неурожаев. Жизнь крестьян была нелегкой…
После смерти царевны Екатерины Ивановны в 1733 году, ее владения причисляются в состав Дворцового ведомства. До 1780 года Куровицы административно относились к Рождественской дворцовой волости. Этот период безвластия отрицательно отразился на судьбе Куровицкой мызы. На несколько десятилетий опустевшая усадьба превращается в пустошь.
В 1762 году куровицкие земли хотел присоединить к своим владениям вышедший в отставку генерал-аншеф, соседний помещик Абрам Петрович Ганнибал. В связи с восшествием на престол императрицы Екатерины II, находясь в зените славы, он рассчитывал получить для себя щедрое вознаграждение – обширные земли, примыкавшие с юга к его Суйдинской мызе. В июле 1762 года в прошении к царице он писал: «…верно рабскую мою службу продолжал 57 лет беспорочно, а июня 9 дня неповинно и без всякого моего преступления от службы устранен без награждения. И за эту мою долголетнюю беспорочную и усердную службу… прошу… пожаловать меня для пропитания з бедною моею фамилиею всеподданнейшего раба вашего в Ингерманландии в Копорском уезде из принадлежащих к Рождественской дворцовой мызе дач с деревнями, называемыми Старое Сиверко, Новое Сиверко, Большево, Межно, Выра, Рыбица; в них мужеска пола по последней ревизии пятьсот семь душ с принадлежащими ко оной деревнями, пустошью Куровицкою и протчим землям с сенным покосом и с лесными угодьями». Однако земли, о которых так мечтал будущий прадед А.С. Пушкина, пожалованы ему так и не были.
Вступивший на российский престол император Павел I в декабре 1796 года именным указом Сенату пожаловал Куровицкую мызу инспекторше Санкт-Петербургского Смольного монастыря благородных девиц Анне Федоровне Рошток « в награду ея усердной службы». Всего ей досталось 208 душ крепостных крестьян. При разделе земель бывшей Рождественской дворцовой волости новой помещице достались «прирезанные» к мызе деревни Кургино и Рыбицы, расположенные на довольно значительном расстоянии от самих Куровиц: Кургино, за современной Белогоркой, а Рыбицы – за Сиверской. Чем было вызвано такое дробление ее поместья на три отдельные части, неизвестно. Однако, удалось установить, что соседней помещицей А.Ф. Рошток с 1797 года стала надзирательница этого же учебного заведения Мария Осиповна Дешан, ставшая владелицей Мариенгофской мызы с деревнями Старая Сиверска и Межно. Другими ее соседями были учительница Смольного монастыря благородных девиц, сестры Елизавета и Каролина Ивановны Зельберейзен, владевшие деревнями Лампово и Большево, Кемско и Изори, Выгоря и Ракитна, создавшие в центральной части своего поместья мызу Дружноселье.
В документах павловской эпохи Куровицкой мызой называлась и сама деревня. Листая страницы Метрических книг церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено, можно найти упоминания о православных жителях Куровиц. Например, запись сделанная в 1800 году сообщает: «Софийского уезда вотчины госпожи Смольного девичьего Новодевичьего монастыря инспекторши Анны Федоровны Рошток деревни Куровицкой мызы крестьянский сын Иван Семенов…». Чаще других встречаются в метриках имена и фамилии местных крестьян: Анисима Яковлева (1734-1808гг.), Еремея Васильева (1737-1807гг.), Евсея Кириллова (1741-1823гг.), Федула Сергеева (1743-1801гг.), Петра Степанова (1747-1831гг.), Ивана Исакова (1745-1823гг.), Павла Степанова (1757-1808гг.) и других. В первой четверти XIX века основное население в Куровицах составляли крестьяне православного вероисповедания, приписанные к приходу Рождественской, а позднее Суйдинской церкви. Несколько семей составляли крестьяне-старообрядцы, исконные жители деревни, которые являлись прихожанами Ламповской староверческой общины. В 1833 году в Куровицах проживало 14 раскольников мужского пола. Это были крестьянские семьи Иокима Кузьмина, Якова Федотова, Ефима Федорова.
До наших дней не сохранилось каких-либо материалов повествующих о том, что представляло собой мыза А.Ф. Рошток. Можно предположить, что это была типичная для того времени небольшая дворянская усадьба, в которой владелица проводила преимущественно летние месяцы. По сведениям 1812 года в помещичьей вотчине числилось 265 крестьян мужского пола. Самой крупной по числу дворов была деревня Куровицкая мыза, в которой имелось 17 крестьянских дворов. В деревне Кургино их насчитывалось 7, а в Рыбицах – 3. Изучая Метрические книги, удалось установить имена куровицких старост, служивших при Рошток. Долгий период этот пост занимал крестьянин Мартын Минин, скончавшийся в 1822 году на 59-м году жизни. После него старостой был его сын Кирилл Мартынов, от которого впоследствии вел свою родословную известный куровицкий род Кирилловых.
В 1812 году 26 крестьян А.Ф. Рошток стали участниками Отечественной войны. Об этом сообщает «Ведомость о числе людей поставленных в ополчение с имений помещиков», хранящаяся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. С военной компании возвратилось 12 человек, остальные ополченцы пали смертью храбрых на полях сражений.
В документах 1829 года Анна Федоровна Рошток упоминается уже как бывшая инспекторша Смольного монастыря благородных девиц. Скончалась помещица в 1835 году, через два года после ее смерти новым владельцем Куровицкого поместья становится князь Лев Петрович Витгенштейн, прикупивший земли умершей Рошток. Куровицы, Курчино и Рыбицы он присоединяет в состав своей обширной Дружносельской вотчины.
До отмены крепостного права куровицкие крестьяне были приписаны к поместью светлейшего князя Витгенштейна и его потомков. В этот период местные леса часто оглашались лаем борзых собак, звуками загонных трещоток и выстрелов. Дружносельский помещик устраивал здесь охотничьи забавы и оружейных выстрелов, приглашая для участия в них целые кавалькады столичных гостей. В качестве загонщиков зверей нередко задействовались куровицкие крестьяне, преимущественно молодые и ловкие парни. По окончании охоты, каждый раз князь щедро одаривал всех участников медными пятаками. В старину, в окрестностях деревни по рассказам стариков водились медведи, лес почти вплотную подходил к Куровицам с восточной стороны. До сих пор огромный лесной массив, протянувшийся вдоль деревни от Кобрино до Вырицы, принадлежащей когда-то Витгенштейну, местные старожилы до сих пор называют Княжеским лесом.
Согласно статистическим сведениям в 1862 году в Куровицах входивших в состав прихода Суйдинской церкви имелось 69 крестьянских дворов, в которых проживало: 200 мужчин и 250 женщин. Многие годы деревенским старостой здесь служил крестьянин Никита Марков. В 1884 году число куровицких старообрядцев составляло 36 человек (14 мужчин и 32 женщины). Все они являлись прихожанами Ламповской Никольской староверческой общины.
В конце XVIII века в двух верстах от Куровиц появилась небольшая по размерам усадьба «Маргусы», а рядом с ней крошечная деревня с одноименным названием. История ее создания связана с именем императора Павла I, который в декабре 1796 года подарил эту мызу подполковнику Петру Федоровичу Малютину, впоследствии генерал-майору лейб-гвардии Измайловского полка, владельцу Вырской мызы и многочисленных деревень. В ряде архивных документов, например, в 1799 году, Маргусы упоминаются как Маргушы. Только к середине XIX столетия за ними закрепилось привычное сегодня для нас название. Однако, в топонимическом отношении, происхождение Маргус остается до настоящего времени загадкой. Живший в этом селении в предвоенный период известный гатчинский краевед Ангелис Николаевич Лбовский в одной из своих газетных заметок утверждал, что своим названием усадьба «Маргусы» обязана жившему здесь в павловскую эпоху виноторговцу Маргусу. Однако это не так. Владельца с таким именем или фамилией в этих местах никогда не существовало, а топоним Маргусы впервые упоминается уже в 1763 году в связи с появлением в этих местах одного из первых в России поля для выращивания картофеля. В указе императрицы Екатерины II сообщалось: «Сим повелеваем барону Сиверсу меж деревнями Сиверска, Маргусах и Коприне создать поле для разведения земляных яблок и делать это с большим прилежанием». Может быть, именно в Маргусах и располагался центр опытного хозяйства Якова Ефимовича Сиверса. В сохранившихся документах подробно рассказывается об успешных результатах картофельного урожая, полученных известным вельможей.
История Маргус как и почти весь Гатчинский край имеет отношение к имени Александра Сергеевича Пушкина и его ближайшему окружению, хотя и весьма скромное. Уроженкой этой деревни была будущая невестка любимой няни великого поэта. Запись о бракосочетании в Метрической книге Суйдинской церкви Воскресения Христова за 1799 год указывает:
«Вотчины господина капитана Сергея Львовича Пушкина деревни Кобрина - крестьянский сын Егор Федоров вотчины господина Петра Федоровича Малютина деревни Маргуш с крестьянской дочерью девицей Агриппиной Ивановой оба первым браком». Поручителями (свидетелями) на свадьбе были: «Села Суйды крестьянин Алексей Родионов (брат Арины Родионовны), Антон Ефимов, деревни Маргуш крестьянин Василий Иванов (брат невесты), деревни Кезелева крестьянин Стефан Алексеев».
Интересно, что бракосочетание старшего сына Арины Родионовны состоялось в феврале 1799 года за три месяца до появления на свет А.С. Пушкина. После свадьбы Егор Федоров и Агриппина Иванова поселились в материнском доме, в той самой знаменитой кобринской избе, в которой в 1974 году был открыт музей «Домик няни Пушкина».
Однако вернемся к истории усадьбы. С 1799 года у Малютина Маргусы приобрел барон, коллежский советник Петр Александрович Черкасов, присоединивший эту мызу к своим сиверским владениям. После смерти Черкасова Маргусы унаследовала его дочь Екатерина Петровна Черкасова. При ней небольшое загородное поместье обустраивается: здесь возводится деревянный господский дом, разбивается парк с аллеями и прудом, строятся хозяйственные службы. Увеличивается и число дворовых крестьян. По описи 1852 года в усадьбе значатся: Григорий Григорьев, Егор Григорьев, Иван Семенов, Стефан Гаврилов и Стефан Стефанов, проживающие здесь вместе с семьями. Некоторые из них были выходцами из деревень Старой Сиверки и Куровиц. Бурмистром (управляющим) мызы многие годы служил крестьянин Григорий Максимов, скончавшийся в 1849 году.
Впоследствии Маргусы неоднократно меняли своих владельцев. Они принадлежали полковнику Константину Кирилловичу Штрандтману, жене губернского секретаря Екатерине Александровне Закадворовой, дочери коллежского советника Софьи Степановне Порошиной, титулярному советнику Владимиру Францевичу Нагелю, полковнику Христафору Платоновичу Дерфельдену и другим. Все они не оставили заметного следа в истории местного края. Среди них особо можно упомянуть разве что В.Ф. Нагеля – главного смотрителя Гатчинского императорского Зверинца. Маргусами он владел в семидесятые-восьмидесятые годы XIX столетия. Позднее он приобрел дачную усадьбу в Сиверской. В дореволюционный период в бывшей дачной столице существовала даже Нагелевская улица, расположенная в конечной части Церковной, ныне Красной улицы.
К концу XIX века Куровицы становятся крупнейшим населенным пунктом в окрестностях Сиверской. Деревня упоминается в известном труде знаменитого путешественника вице-президента императорского русского Географического общества Петра Петровича Семенова «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», изданном в 1900 году. В третьем томе данного издания автор, рассказывая о Сиверской, сообщает: «В трех верстах от деревни Старо-Сиверской расположено на шоссе, соединяющем Варшавский шоссейный путь с Московским, многолюдное село Куровицы – жителей около 550 человек».
В 1896 году в связи с развитием Сиверской дачной местности было открыто транспортное сообщение между станцией Сиверской и Куровицами. Согласно таксы, утвержденной для легковых извозчиков, стоимость проезда по данному маршруту составила 40 копеек.
А. Бурлаков
(Продолжение следует)
Примечания:
-
Новгородские писцовые книги, изданные Археологической комиссией. Переписная оброчная книга Вотской пятины письма Дм. Китаева и подъячего Н.Г. Моклокова, 1500 года. Первая половина. СПб., 1868, т.3.
-
Там же.
-
Там же.
-
Там же.
-
Там же.
-
Там же.
-
Историко-статистические сведения о С-Петербургской епархии. Выпуск VIII. СПб., 1884. Церковь Воскресения Христова в Суйде.
-
РГВИА Москва, ф. 846, оп. 16, д. 18340, ч. 2, том ККЗ. Сводные карты погостов Ивангородского, Ямбургского и Копорского ленов, а так же Дудергофского погоста, 1679.
-
РГИА. ф. 466, оп. 16/1629, д. 1. Указы и разные повеления управителям села Рождествено. 1714-1716.
-
Телетова Н. К истории села Рождествено XVI – XVIII вв. – в сб. Набоковский вестник, вып. 3, СПб., 1999, с. 76-77.
-
Там же, с. 76
-
РГИА. ф. 468, оп. 1, д. 4006. Челобитчиковы дела, 1762.
-
ЦГИА. СПб., ф. 19, рп. 124, д. 396 Метрическая книга церкв Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествене, 1800.
Юрий Слёзкин
Святая радость (1915 год)
Вырицкая часть биографии писателя приведена в первом номере журнала.




















Рассказ внучки С.И.Ермолова – Ермоловой Екатерины Александровны

«Когда я приехала из деревни в Вырицу к своему дяде, у меня были боли. В деревне непосильный труд, я была надорвана и у меня болел весь кишечник, и еще была женская болезнь. Заметив это, тетя Настя (жена Ивана Кузьмича Фролова – прим. сост.) говорит: «Катюха, иди-ка к Братцу, пиши записку». «Тетя Настя, а как писать-то?» «А ты напиши: Дорогой Братец, у меня болит живот, болят кишки, помолись, чтоб Господь послал милости». Вот я написала такую записочку и пошла. Все вспоминаю, как я там ходила. Взошла в Братцев дом, встала в проходе на правую руку к косяку, а на левую-то руку за дверью лестница наверх. Оттуда по лестнице и идут и мне все видно. Я стою, идет сестрица Настенька ко мне: «Катечка, ты что пришла?» Я говорю: «сестрица Настенька, я к Братцу с записочкой пришла». Это был день неприемный. Но так как мы здесь жили, то могли к Братцу обращаться и так. Она взяла у меня записочку и побежала наверх. Спускается оттуда и говорит: «Братец Дорогой сказал так: попей чаю с лимонами, не поешь постное масло в течение двух недель, Господь тебе пошлет милость и исцеление». Я уже шла домой – у меня ничего не болело. Я пришла домой. Вечером тетя Настя сказала дяде Ване, он привез на следующий день лимоны. Я не ела постного масла в течение двух недель. И на сегодняшний день, девяностый пошел год, я никакой такой болезни не знаю – вот что сделал Дорогой Братец.
И еще было со мной такое дело: у меня очень болел корневой зуб. А раньше здесь была только одна платная врачиха в доме на Оредежской улице, куда Настя Лукашева, младшая дочь братцева водопроводчика, вышла замуж, больше ни поликлиник, ничего не было. Была Головкина Мария Васильевна, терапевт, которая принимала по всем болезням. И дядя Ваня (Фролов Иван Кузьмич – прим. сост.) взял меня в «Красную газету», где он работал редактором, к своему врачу на работу. И там мне удалили гнилой зуб. Ну, а я в город не езжу, мне же охота в окошечко поглядеть. Я окошечко-то открыла и до самой Вырицы все в окошечко глядела. А ведь поезд идет, ветер. На второй день у меня во-о-о-т такая щека, распухло. А жили тогда у дяди Вани наверху семья трезвенника Парфентия Ефимовича Белкина, его жена Вера Парфентьевна, дочь его, Лёля Белкина. Они жили на даче, заживали деньги, которые дали дяде Ване в долг на покупку дома. И вот к Вере Парфентьевне пришла Лукерья Семеновна, которая у Братца в коммуне хлеб пекла. Они спускаются вниз по лестнице и говорят: «Ай-ай-ай, Катюшка-то какая, ведь у нее раздуло всю щеку, а ведь у Лосева померла Лиза от этого». А я стою внизу в коридоре и все слышу, и от таких слов расстроилась, боюсь помирать-то – девчонка (Ермоловой Е.А. в это время было 13-14 лет, она родилась в 1909 году, - прим. сост.). И вдруг в этот же день, к вечеру, идет Дорогой Братец на скотный двор, который был в конце Павловского проспекта. И мы когда видели Дорогого Братца, обязательно подходили под благословение. Я вышла с завязанной щекой, подхожу к Братцу Дорогому. Братец благословил, я ему говорю: «Братец Дорогой помолись, я вытащила зуб, а у меня вот что сделалось». Братец покачал головой: «Ай-ай-ай», открыл свой ротик, взял глазной зуб, а он вот так ходит ходуном: «Вот как у меня зуб ходит ходуном, я и то его не тащу – надо он выпадет сам. Ай-ай-ай, Господь пошлет милости». Наутро я встаю – у меня никакой опухоли – куда девалась? И никакой боли не почувствовала в зубе.
Вот расскажу, как Братец открыл мои мысли. Я пошла первый раз к Братцу на беседу. Тетя Настя мне говорит: «Катюха, мы к Братцу ездим в город на беседу, ты туда не ездишь, так ты здесь сходи. Только после беседы все подходят к Дорогому Братцу под благословение, и ты подойди». Я на беседу в Обухово была дядей Ваней взята всего один раз. А когда праздник выпадал среди недели, то Братец устраивал беседу здесь в Вырице для коммунаров и трезвенников из колонии. Я была бойкая девчонка и спрашиваю: «Тетя Настя, а как Братец благословляет?» «Ты, Катюха, увидишь. Когда кончится беседа, Братец идет туда, где иконы, помолится, потом разворачивается, сестрицы кругом его, вся молодежь-коммунары по той же стороне, поют молитвы, а люди все подходят к Братцу под благословение. И вот ты увидишь. Ты свою ручку-то вот так дашь, а Братец свою на твою положит, старайся поцеловать Братцеву руку. И Братец благословляет твою руку». А я говорю: «О-о-ой, а у нас не так батюшка в деревне благословляет». А я почему это знала, потому что дяди Вани отец был большой церковник, ни одной обедни, ни одной всенощной не пропустил, хотя два километра был от нас храм в селе. Он лошадку запрег – и поехал. Зачастую и нас с собой забирал. Так я знала, как благословляет батюшка-то. Он был вхож в наш дом. Ведь раньше в деревне в каждый дом ходили, служили молебны на все праздники большие, и у нас батюшка останавливался на чашку чаю. И всегда батюшка благословлял вот так: крестом и потом дает целовать руку. А мне тетя Настя говорит: «Катюха, ты живешь у нас и делай по-нашему, а то скажут: вот какая племянница у Ивана Кузьмича, и к Братцу под благословение не подошла». «Нет, тетя Настя, я подойду». И я пошла. Кончилась беседа, и я, как сейчас помню, я шла за Иваном Григорьевичем, младшим братом Григорьевским, который был в коммуне со своей семьей и руководил молодежью, позже он был арестован, выслан и домой не вернулся. Я за ним шла, он только отошел. Я хотела, как все, руку свою поставить вот так, а Братец взял и свою ручку вот так опустил. Посмотрел на меня вот так, дважды, с ног до головы, а потом только перекрестил меня большим крестом и дал поцеловать руку.

Иван Кузьмич Фролов (справа) с женой Анастасией, дочерью Екатериной (Е.А.Ермоловой) – вторая справа и внучкой Галиной (сейчас живет в том же доме по Майскому переулку, 5) в саду. Вырица, ок.1960г. Фото из семейного архива.
Я, конечно, как пришла домой, сразу стучу, Елена (дочь Фроловых – прим. сост.) открывает. Я ей первый вопрос: «Тетя Настя за водой не ходила?» А мы тогда воду брали из колодца у Братца во дворе, качали из колонки. А она мне говорит: «А ты как ушла к Братцу, мама с Дуськой легла, она сейчас еще спит». Ага, значит, тетя Настя не ходила. Тогда я второй вопрос Ленке задаю: «А к нам никто не приходил из коммунаров, когда я ушла?» Ленка опять говорит: «Нет». Тетя Настя, услышав разговор, встала. «Ну вот, тетя Настя, а меня-то ваш Братец благословил, как батюшка». А она мне вот так по голове: «Катюха, держи всю жизнь вот тут».
Братец дядю моего, Ивана Кузьмича, форменным образом заставил мне купить машинку вязать чулки. Братец сказал дяде Ване: «купи племяннице машинку и научи её вязать». А дядя Ваня купил недавно дом – с деньгами трудно. Второй раз сказал Братец дяде Ване про то же. Дядя Ваня тогда меня спрашивает: «Катюшка, ты что же, просила Братца?» А я ему и отвечаю: «Дядя Ваня, ну как же я буду просить-то, ведь ты же мне не отец родной, да и денег у тебя нет – дом-то купили». Как раз в то время, я встретила Митю Козельского (известный юродивый Дмитрий Дмитриевич Попов-Знобишин из г.Козельска Калужской губернии – прим. сост.) на Павловском проспекте, чуть выше братцева дома. Подхожу к нему, здороваюсь, целуюсь с ним, и вдруг он ни с того, ни с сего: «надо машинку купить, надо машинку купить». Я удивилась: Братец про машинку и Митя про машинку. Прошло некоторое время и вдруг опять, в третий раз. В понедельник, возвращаясь с работы, дядя Ваня, как всегда, ехал с Братцем в одном вагоне. Братец возвращался из города, где принимал народ. Поезд тронулся, Братец, как обычно, встал, снял шляпу, перекрестился, и не севши, вдруг обращается к Ивану Кузьмичу: «Кузьмич, а ты купил машинку-то племяннице?» Дядя Ваня растерялся: «Нет, Братец Дорогой». И тут Братец топнул ножкой: «А кто ж тебе говорит?!»…Приехал дядя Ваня перепуганный и говорит: «Катерина, завтра едем в магазин покупать машинку! Я такого строгого лица у Братца за все годы не видел, как сегодня!» Завтра же была куплена недорогая машинка за 90 рублей.
Две недели я училась вязать. И вот однажды идёт Дорогой Братец по Павловскому проспекту на скотный двор, а у нас, у дяди Вани был закон: если уж увидим, что Братец идёт, обязательно выйти под благословение. Мы вышли, я подошла к Братцу и говорю: «Братец Дорогой, спасибо, дядя Ваня мне машинку купил и я научилась вязать. Помолись, чтобы Господь послал мне работы». Братец погладил меня по плечу и говорит: «Ну вот и хорошо. Сиди работай дома, а к чужим дядькам работать не ходи». И повторил это дважды. Вечером дядя Ваня, услышав об этом, пожал плечами и сказал: «Не знаю, Катюшка, что это Дорогой Братец тебе сказал». А в то время чуть ли не все в Вырице были трикотажниками. Очень у многих по домам были вязальные машины. Трикотажными делами руководил трезвенник Давыдов, у него был склад трикотажного сырья, и он же занимался сбытом готовой продукции. Работали у него всё одни трезвенники, никого не было чужих-то. Вот дядя Ваня и смутился: «Катюшка, ведь ты же пойдёшь оформляться в Давыдов дом, а там же все трезвенники; как же тебе Братец сказал: не ходи к чужим дядькам? Не пойму я, Катя, Братцева ответа на твой вопрос».
Итак, это было скрыто на долгие годы. Вот началась война. В Вырицу вошли немцы. У меня двое ребят, куда я от них? На расчистку и ремонт дорог? Что я там получу? Тогда, во время оккупации, местное население сгонялось на дороги. За работу давали маленькую-маленькую буханочку хлеба и в кулёчках из конфетных фантиков по ложечке крупки, соли, повидла, и какого-нибудь жира. Разве я прокормлю двоих детей? Да к тому же, если я ушла, то у меня в доме, всё что есть, растащат. И что же вы думаете? Русская управа с разрешения немецкого командования начала выдавать патенты для надомной работы. И я, конечно, взяла патент и стала вязать чулки да носки. А пряжи-то было навалом: перед войной была громадная трикотажная артель на той стороне, где сейчас хозяйственный магазин, - там было очень много товара. И у нас тут, как бежали-то ходом — всё осталось на месте. Так люди ту пряжу и растащили, а потом продавали. Она была нужна тому у кого есть машина, вот я и покупала. Дома вязала, сдавала на рынке, и на эти деньги покупала что мне надо. Вот так работала и сидела дома, и к чужим дядькам работать не ходила. Вот вам и 27-й год, а вышло в 41-ом. Прихожу я к дяде Ване и говорю: «Ну вот, дядя Ваня, разрешился вопрос братцева ответа: я ведь сижу дома, на дорогу меня не гонят – у меня патент, - и слава Тебе, Господи, я сыта и ребята на моих глазах».
Так что вот какой был Братец, он знал в двадцать седьмом году, что у меня спасение будет дома вязать. И ещё что скажу: к чужим дядькам идти, чтобы прокормить ребят в войну, надо с ними жить – это была кухня, это был у них дом отдыха, а если не будешь, ты им не нужен. Так Господь спас и Братец Дорогой, помиловал, и сохранил от всего худого. Дядя Ваня наш, хотел продуть кран у самовара. Самовар вскипятили, а кран чего-то стал хандрить. Дядя Ваня, не покрывши свое лицо, взял, да дунул в кран, а сверху кипяток ему на лицо, хорошо, что у него были глаза не открыты, а так бы он и глаза ошпарил. Он, конечно, тут же побежал к Братцу. Лицо у нег все вздулось. Приходит, а Братец и говорит: «Кузьмич, ты же знаешь лекарство: тепленькое маслице подогрей и смасливай, и ничего не будет». Были волдыри, болячки, но дожил до преклонных лет, чуть ли не до девяноста, у него ни одной крапинки не осталось от последствий ожогов. Все прошло, ничего не употреблял, кроме, как Братец сказал: маслица тепленького.
Раз мы с подружкой Юлей, старых трезвенников племянницей, Шошиной тети Дуни, (Егор Дементьевич, муж ее с Мурманской или с Архангельской области, взял у сестры тети Дуниной одну из дочек, Юлю), идем по Бакуниной улице, выходим на Павловский проспект и видим Братца, который идет со стороны столовой. А раньше, где сейчас поликлиника, только не на том месте где поликлиника, а к самому забору, на Бакунина, была большая столовая под навесом, где коммунары в летнее время обедали. Вдоль Павловского проспекта от угла Бакуниной улицы был большой двухэтажный дом деревянный, в котором жили коммунары. Я говорю: «Надо к Братцу подойти под благословение». Дело было к осени. Мы подходим с ней. Братец нас благословил. Юля говорит: « Братец Дорогой, благослови меня съездить к маме». «А где же твоя мама живет? Холодно тебе там будет». А Юля говорит: «Мне тетя купила шерстяную юбку и сак купила мне на вате, а мама из деревни пишет: она мне валенки сваляла, мне тепло будет». А Братец выслушал ее и повторил свои слова: «Холодно тебе там будет». «Да Братец Дророгой, я привыкла к тому климату». Тогда Братец повторил это в третий раз и добавил: «Носить тебе будет нечего». И не благословил. А Юля все таки поехала. Ровно через полторы недели я получаю от нее письмо. Она писала его вся в слезах – раздвоенные кое-где буквы от слез. Пишет: «Катя, мне носить нечего, Братцевы слова исполнились». Она слезла на станции с поезда, а раньше на лошадях с крайних деревень подъезжали заработать мужики: кого подвезти. Ну она вышла на площадь, стоит мужчина с лошадью. Она спрашивает: «Дяденька, а ты в какие деревни-то поедешь?» А он говорит: «А в какую тебе надо?» Она называет материну деревню. А он: «Так я скрозь эту деревню поеду. Постоим, может еще кто выйдет». Больше никого не нашлось. «Кидай, - говорит, - свои вещи». А у нее были из фанеры чемоданчик, застежки на лямочках, и рюкзачок, в углы картошки вложены и перевязаны, чтоб за спину одевать. Проезжают они мимо булочной. Этот хозяин лошади и говорит: «Дочурка, ты помоложе, на тебе рупь, сходи купи мне баранок». Она пошла за баранками, пришла – мужика-то нет, - она в слезы. Туда-сюда. Где говорят лошадь такого цвета проехала туда-то. А где искать? Так вот не только свое, но и подарочки, которые тетя Дуня передавала – все утащили.

Степан Иванович Ермолов ок.1900г. Фото из семейного архива.
Жить с Братцем было легко, потому-что если Братец благословит, все будет хорошо, не благословил – не делай, все равно не будет. За каждым делом все трезвенники обращались к Братцу. И все, что говорил Братец, все получалось только в лучшую сторону. Но уж коли не благословил, лучше не делай.
Скажу такой пример с нами с Фроловыми. У дяди Вани был младший брат Василий. В тот момент у Белкина, который вышел из коммуны, была открыта токарная мастерская, жил он, кажется на Расстанной. Дядя Ваня к нему обратился, надо же куда-то брата пристроить, так и так, Парфентий Ефимович, возьми Васю учеником. Вася был меня постарше года на три. Вася у него научился и работал на токарном станке. У Белкина была единственная дочь Леля. Постольку-поскольку он у них питался, они конечно познакомились с Лелей. Ходили вместе по беседам и настал момент, когда Василий вроде бы и жениться захотел. Предложение сделал Леле. Они очень были довольны, что Парфентий Ефимович, что и Вера Парфентьевна. Приехали к Дорогому Братцу в Вырицу за благословением. А Братец Дорогой и говорит: «Еще рано, надо погулять». «Братец Дорогой, благослови», - это уже за молодых говорит Парфентий Ефимович Братцу. А Братец опять говорит: «Рановато, надо подождать». «Братец Дорогой, они любят друг друга, благослови». Братец опять ответил то же самое. Не получили благословения, так и разошлись. И сделали напротив. Повенчали их в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы против Витебского вокзала. Я на венчании там была. И трезвый стол у Белкиных был сделан, как надо… Прожили они семь лет и – разошлись. Вот вам – не было благословения.
У дяди Вани родился сын после Дуси, дядя Ваня к Братцу побежал: «Братец Дорогой, Господь сына послал, нареки имя». «Ну что ж, Кузьмич, назовем Петром, а Павла ждать будем». Этот Петя прожил три года и помер. Через год тетя Настя разрешилась опять: парень. И в это же время. Конечно, дядя Ваня, назвал как Братец сказал, Павлом.
А сам по себе Братец был постоянно спокойный, приятно выглядевший, и всегда он был таким, когда бы ты к нему не подходил.
Ему подвластно было все, все дано Господом. Потому что Братец свою жизнь посвятил для народа. Братец нес сорокодневный пост. Братец ночами не спал, на молитве стоял. Ведь это не так все просто дается. Но зато и Братец свою жизнь отдал за народ. А Господь его наградил такой силой Божественной.
Уходил Братец в осеннем пальто (был вызван в Ленинград по повестке прокурора 19 апреля 1929г. – прим. сост.). Я работала тогда. Трикотажка была у нас на берегу, где сейчас по Кривой идти, на правой руке – санаторий детский – была трикотажная артель. Утром мы проходили на работу – Братец еще был дома. В тот год была сильная водопель, даже на Павловском проспекте был ручей воды – бил снизу, вода была переполнена – по мосту ездить было нельзя. И Братца повезли по набережной до железной дороги, там у переезда, где бывшая Балаева дача, Братец с коляски слез и пошел пешечком, с Григорьевским, с одним из братьев. А Топтыгин – пешком-то ходили через мост, он прошел пешком за билетами в кассу. Братец Дорогой на двухколяске-то, на лошадке-то, на Силаче, я даже этого Силача видела, какого его привезли – что у него было с ногой. Я как раз шла за водой и их встретила – Братец его уже принял и благословил отвести его на скотный двор – это я видела. Ну вот, довезли Братца Дорогого до переезда, там он слез и пешечком с дядей Сережей (Григорьевским – прим. сост.) и пошел через мост железный. А я сидела вязала. Со мной сидела вязала старых трезвенников дочка Сараевых – жили они на коммунальном проспекте… Я и говорю: «Слушай, пойдем, подойдем к Братцу под благословение, да ведь может быть и последний-то раз». И мы с ней пошли берегом, прямо на железную дорогу. Ну тогда же была ни дисциплина, ничего – всем в мастерской со столов соскочили и кричат, и бегут: «Чуриков!» - повезли, значит в город. Когда мы подошли к железной дороге – это будет уже сразу после железнодорожного моста, там еще было кирпичное здание внизу водокачки, все туда прибежали: орут, кричат, шумят, хохочут, гам-гам-гам. Все, которые работали в мастерской туда прибежали поглазеть. Я тогда Наде и говорю: «Надя, мы не будем подходить, а только посмотрим, потому что я по себе чувствую: я волнуюсь, а Братцу тоже неприятен этот хохот-то. Ведь он расстроится. Неприятно это, давай, не пойдем». И как Бог сделал: вдруг вся эта партия: «Побежимте по Кривой улице, там он пройдет – рядышком-то линия!» - их как рукой смело, они все удрали. А мы с Надей остались две. Вот я и говорю: «Надя, теперь пойдем». Мы на железную дорогу вступили навстречу Братцу, а Братец нам и говорит: «А вы куда?» «Братец Дорогой, а мы к тебе, благослови нас». «Да-а?» - и Братец нас благословил. Я так довольна. И это все в памяти у меня и осталось. В руках у Братца ничего не было, небольшой чемоданчик, который ему собрали, был видимо с Топтыгиным. Позже мы слышали от коммунаров, как было прощание с Братцем. Когда они вышли все во двор, конечно, люди все плакали, и говорят: «Братец Дорогой, ну как же мы будем без тебя жить?» А Братец им ответил легко и просто: «Будете просить…». (К сожалению, в этом месте на 1 минуту запись прервалась, - прим. сост.) Это он даже в коммуне говорил: «Когда я уйду совсем». Понимали это так, что Братец умрет, ведь никто не думал, что его арестуют и увезут. Мыслили, так что Братец уйдет из жизни и все равно будет помогать. Братец еще и так говорил: «Я буду жить между двух речек, но ходить ко мне не будут».
У меня была из Петровки очень хорошая знакомая женщина, она прожила век, не выходя замуж, так продолжала свое девство, серьезная самостоятельная женщина. И вот она мне рассказывала: «Я шла от Баусовой дачи…» Она работала батрачкой у Головкиных. В те годы здесь не было такого строения, у нас по набережной было всего две дачи: дача первая большая белая и дача Баусовых. И вот, однажды, эта Елизавета Абрамовна Хянина идет от Баусовых по набережной. Братец Дорогой стоит у себя на огороде на углу, там где памятник теперь, за забором. Елизавета Абрамовна подошла прямо к Братцу, к заборику: «Братец Дорогой, благослови меня». И Братец Дорогой ее через забор благословил, дал ей просвирочку и сказал: «Ну вот, никогда не будешь голодна, Господь всегда тебе поможет». Вся семья Елизаветы Абрамовны была выслана, и она попала в том место, где сидел в тюрьме Братец, в Ярославле. А семья такая была: сестра, сын, сноха и она одна. И вот она что мне рассказала. Я верю ей, потому что она положительная, спокойная, самостоятельная.
«Вот мы приехали, поселились. Вечером я смотрю: идут коровки. Я и думаю: пойду-ка я за коровками, увижу, в какой дом пойдет корова, попросить, может быть будут молочка продавать по пол-литра. Я пошла. Дорожка эта проходила мимо стены тюремной, где находился Дорогой Братец. Я смотрю: одна коровка зашла, другая в другой дом пошла. Я думаю: дай-ка в первый дом и зайду, куда зашла коровка, так наверно Богу надо. Зашла в дом, поздоровалась и говорю: «Я к вам с большой просьбой. Мы тут недавно поселились, не будете ли вы продавать нам молочка, хотя бы по пол-литра на день?» Хозяйка говорит: «Пожалуйста».
А как она работала батрачкой, то она видит: огород порядочный, ребетенки маленькие, то она и говорит:
«Милая моя, а может быть нужно что-нибудь помочь, пополоть или что поделать в огороде, а может быть носочки ребетенкам связать, так я все это могу делать». А хозяйка и говорит: «Да тебя Господь послал ко мне наверно. Конечно надо. Муж на работе, а я одна с ребятишками – дел хватает».
Так Елизавета Абрамовна познакомилась. Вскоре ее хозяйка спрашивает: «А откуда вы приехали?» «Мы и наши прадеды жили на насиженном месте в Вырице…» Эта женщина хлопает руками: «Это вы жили в городе Братца?!» Елизавета Абрамовна вытаращила на нее глаза: «А как вы знаете Братца?» - «Братец сидел у нас в тюрьме. У него там город?» - «Да нет, это станция, у нас там деревенька по речке, а где Братец Дорогой был – там колония трезвенников». И хозяйка стала ее допрашивать. А Елизавет Абрамовна, в свою очередь прямо задала вопрос: «Скажите, а как же, где же Братец?» Она говорит: «Такое несчастье случилось, так никто ничего точно не узнал…» Оказывается ее муж работал надзирателем в тюрьме на том отделении, где была Братцева камера. «Как этого Братца, дедушку – так они его называли, - все любили у нас. Братец исцелил начальника тюрьмы с одра жену, которая лежала в предсмертном состоянии. У нас тут много людей которые его любили и ему верили, в том числе, начальник тюрьмы. И вот что случилось: муж отдежурил, пришел с работы, утром встал, и, как обычно, перекусил и пошел на работу, и Дорогого Братца не оказалось в тюрьме. Сколько кто кого ни допрашивал, никто ничего о Братце не узнал. Так же в рот набравши был и начальник…»
Аудиозапись рассказов Ермоловой Е.А. от 04.08.97г., 17.08.97г. и 29.11.98г. хранится у Паламодова С.Ю.

Юрий Антонов
Иван Ефремов.
Поэма
Всю ночь я работаю в Вырице дивной –
Иконоподобной, мечтами увитой;
Зимою покрытой серебряным снегом,
А летом цветами и царственной негой!
Здесь люди духовною силой богаты
И самые чудные в мире закаты.
На исповедь ездил сюда Шостакович,
Писал Лихачев чудодейственный повесть,
И сам Барановский ей дарствовал книгу,
Подобную лучшему в мире сапфиру,
И царь Николай приезжал на охоту,
И Бродский Иосиф писал свою оду…
Ну, это приезжие все, а из местных -
Ефремов Иван, нам с рождения известный.
Хоть прозу писал, но, однако, при этом
Конечно, Ефремов в душе был поэтом.
Любил путешествия и приключения,
Вкус к жизни имел для него сверхзначение.
В музее читал я его дневники
И видел красивые там сапоги,
В которых бродил он по грешной земле,
В монгольских степях гарцевал на коне.
И те сапоги лежат там как гармонь –
Их времени дерзкий не тронул огонь.
Однажды, а можете вы и не верить,
Мне те сапоги удалось и примерить.
И впору размер мне их вдруг оказался,
И я за поэму тогда же и взялся.
Бог Вырицы! Был для толпы властелином
И ангела звали его: Серафимом!
Тот ангел лечил от болезней людей
И много имел интересных идей.
Он видел сквозь время и жил, как святой,
Душа его пышно цвела красотой;
К нему за советом шли старый и млад,
Он искренне был паломникам рад,
И очередь вечно стояла к нему,
Снимая с души грехи и вину.
Святой Серафим нам любовь завещал
И к праведной жизни народ призывал.
Он был посвящен в сверхтаинство сил,
И рядом Ефремов творил вместе с ним.
В войну, когда не было связи почтовой,
Шли жители Вырицы в домик к святому
Узнать, были ль живы их близкие люди,
И сердце святого по Божеской сути
В почтового голубя вдруг превращалось
И к линии фронта стремительно мчалось,
И там находил он пронзительным взглядом
Бойцов, что пытались разделаться с адом
Безумной агрессии, мстя за отчизну,
Рискуя своей драгоценною жизнью.
Мгновенно докладывал родственным душам,
Кто жив, а кто мертв, кто бежал, кто контужен,
И тут же обратно пускался он сразу –
Святой Серафим не ошибся ни разу!
Он сам себе выбрал дату кончины,
И третье апреля - день смерти, отныне
Мы все почитаем,… и эту же дату
Для смерти избрал один римский папа.
Иван же Ефремов в душе был поэт,
Тащил он домой за презентом презент,
Монголию всю обошел он пешком
С лопатой складной и большим вещмешком;
Привез он в музей и скелет динозавра,
Чтоб больше о прошлом узнали мы завтра,
Историю всю распознал он планеты
(Что близко душе лишь большого поэта).
Так был он воспитан отцом своим властным,
Что родина будет тогда лишь прекрасной,
Когда мы заботиться будем о доме
И строить дворцы, а не спать на соломе
В фазендах убогих и хижинах ветхих,
Как звери в берлогах, как птицы на ветках.
Я в детстве далеком, лишь только родился,
В Ефремовский дом возле речки вселился,
Тот дом был построен отцом фабрикантом
Для тех, кто трудился с душой и азартом.
Тот дом был добротным и сделан на славу,
Пришелся б он даже русалкам по нраву,
В нем было уютно и пахло сосной,
И сердце хозяина грелось зимой.
Четыре семьи там, в безбедности, жили
И между собой словно дети дружили.
Пять зданий таких здесь поодаль стояли,
И птицы там всегда щебетали.
А рядом, у речки, останки завода,
В войну разбомбили его с самолетов;
Там раньше пилились деревья на доски,
Там пахло когда-то опилками с воском,
Туман опускался под утро, как ладан,
Трудились рабочие с радостью рядом,
Для домиков бревна готовили людям,
Но мы в производство вдаваться не будем,
Чтоб книги печатать, нам надобны деньги.
Отец уж предвидел, что сын его гений,
Он жизнь не отдал свою сладостной лени,
И время стояло пред ним на коленях.
С утра приходил он к себе на завод
С масленкой и множеством разных забот;
Подшипники смазывал он самолично,
Чтоб каждый моторчик работал отлично.
Рабочие люди его уважали,
Богатство свое и его умножали.
К заводу же лес вдоль речки сплавляли,
И бревна по глади зеркальной стекали,
И их осторожно баграми ловили
И тут же на белые доски пилили.
Все сам он построил – брал в банке кредиты,
Путь розами был его пышно увитый,
Все было по - честному: быстро и строго.
И вот уж железная рядом дорога.
На полную мощность завод заработал,
Конец наступил неустанным заботам.
Крутила река заводскую турбину,
Которая водностихийную силу
Отдала моторам и пил, и лебедок,
В домах обеспечив трудящимся отдых,
Достойный уют и ненадобность свечек…
Так пользу извлек наш потомок от речек,
От ветра, от солнца, морского прилива;
Да здравствует разум наш неторопливый…
Да только бы знать ненасытным нам меру,
Чтоб жизнь не сгубить по иному примеру
Планет, что без жизни летят, и природы!
Где выжжены рощи, где высохли воды.
Я с женщиной мудрой беседовал как-то
О том, что несет нам ближайшее завтра,
Ведь кончатся скоро запасы металлов
И многих уже не найти минералов.
Она отвечала, натужив сознанье:
«Все сделаем мы из песка и из камня»
(В такой ситуации, что будет с нами?
Самим бы не стать в одночасье камнями!)
А в прочем, ученый пусть судит об этом,
Гармонии путь предстоит пред поэтом.
… Осталось покрасить трубу пилорамы,
Хозяин взял краски, ведро скипидара,
Забрался на лестницу и самолично
Работу художника сделал отлично.
И только что высохла прочная краска,
Пришла революция дерзко и властно,
Завод отобрали, отдали рабочим,
И лозунг такой был: «Работай, как хочешь»!
С тех пор наши фабрики стали как бары –
Звенели в цехах, словно птицы стаканы.
Продукцию мы выпускали, конечно,
Но в мире похвастаться было нам нечем;
Картину такую мы все наблюдали –
Как страшно от стран мы цивильных отстали.
Авто наши были похожи на танки,
Спектакли унылые шли на Таганке,
А танки мы делали, словно авто…
Везде этажей возводили по сто,
Дворцы из титана, стекла и из стали,
А мы все, как птицы весной щебетали.
Гуляли, гуляли… потом отдыхали,
Вначале Прибалтику оптом отдали,
Потом и Армению с Грузией вместе
И начали долго топтаться на месте;
Своих же людей до гроша обобрали –
Все вклады у лучших людей отобрали!
И так подползли мы опять к перестройке –
Создатель в дневник нам поставил лишь двойки
По экономике, по поведению,
И время наш путь подвергает сомнению.
Лишь в космосе мы одержали победу,
Но там не нашли мы божественной Леды.
Америка выиграла лунную гонку,
И радость от нас ускользнула в сторонку.
Да, в спорте мы первые были, а ныне
Горит наша слава лучиной в камине.
Хозяева снова у нас появились,
И мы в одночасье опять удивились
Богатствам, тугим кошелькам, мерседесам…
Мы смотрим на них с пребольшим интересом.
…Когда революция кровь проливала,
Лишен человек был морального права,
Обида на нашей земле воцарилась,
И месть вместе с нею в душе возродилась;
И наглость людей, бескультурных и серых,
И начались пытки за совесть и веру.
Вначале гражданские войны и смуты
(Репрессией люди, как обод, согнуты).
И строились тюрьмы, и снова, и снова
Там люди сидели лишь просто за слово;
За букву, за звук, за любовь, за идею –
Сидели десятками лет, не неделю,
А были и пытки еще, и расстрелы…
И падали замертво тело за телом.
Так грубости эхо, назад возвращаясь,
Змеею жестокой вползает, кусаясь,
Фашисты полезли войной на Россию
И были разбиты ответною силой.
Когда отступали и в спешке бежали,
Заводик Ефремова немцы взорвали,
Чтоб больше Россию еще обессилить,
Но можно и злобу чужую осилить.
Чуть позже, как будто цветок на поляне,
Построили рядом завод россияне
Другой, где и ныне вы купите мебель,
И солнце все так же сияет на небе.
Обида такое тревожное чувство!
В душе от обиды становится пусто.
Украли заводик с железной дорогой
(за что государство сидело в остроге),
Украли название улицы дерзко –
(Ефремовской ветке в поселке нет места),
Украли все пилы, моторы, домишки.
И злобно смеялись над этим воришки.
И думаешь, думаешь: Боже ты правый
Как здорово, что ты и дряхлый и старый,
Что органы все уж давно износились,
А то бы кому-то они пригодились.
И что мы за люди, и что за создания,
Дотянемся скоро до звезд мироздания.
И там мы начнем перестройку вселенной
Под музыку нашей мечты вдохновенной,
На собственный лад, разоряя планеты
(такие, я слышал, бытуют проекты).
Проснешься однажды, и нету луны –
На гелий ее сердцевину сожгли,
А там и другие светила и звезды
В реакторах наших растают, как слезы.
Так думал Ефремов – писатель и гений
Великий магистр внеземных откровений,
А что не украсть в этом мире бурлящем,
Спешащим за бурным блистательным счастьем?
А вот, не украсть у Толстого романы
(какие бы вы не мели карманы),
Какие бы вы не имели деньжищи,
Вам, вряд ли удастся ограбить Да Винчи.
В конечном же счете, подумав получше,
Он понял: ограбить так сложно лишь души.
И как быть с душою, не знают воришки,
Ведь ждут их с добычей жена и детишки.
И стал он писать, позабыв про обиду,
Подобно Моэму, подобно Майн Риду,
Ведь жизнь продолжается, и на аренах
Другие актеры вкушают победы.
Писателя жизнь далеко не простая –
Болели глаза, фолианты листая.
С утра и до вечера книги страницы
Вам будут шептать, словно губы девицы
Красоты таинственных чувств и идей
О том, что есть люди и есть лицедеи,
О том, что фантазий границ не бывает,
И мысль, как луна, в подсознанье сияет,
И толпы поэтов, склоняясь пред вами
С красивыми, словно павлины, стихами -
Здесь тысячи разных великих поэтов,
Познавших все тайны поэм и сонетов;
Художников всех, композиторов тоже,
Лишь после того изученье продолжив,
Вы сможете что-то поведать и сами –
Так делятся мыслями гении с нами.
Вначале прочел я под время молитвы
Роман под названием «Лезвие бритвы».
Там каждое слово струною звучало
И каждое слово любовь источало,
Там дух приключений пленил мои чувства,
Страстей там и красок веселое буйство,
К тому же ещё и потоки сознанья
Вошли в мою душу зарей созиданья,
Таисию Афинскую прочитал я позднее
И стал осторожнее я и мудрее.
Там есть рассуждения и о поэтах,
О магах, о сектах, о чародеях,
Там полночь любви, словно роза сияет,
Там счастья богиня по ласкам страдает,
И сам Александр Македонский воюет,
И слава толпою народной ликует.
Там женская дружба мечтами воспета,
Философ живет, как предвестник рассвета,
Там мысли полны благовоний и неги,
И тот, кто прочтет, станет сразу умнее,
Узнает он больше о страсти девичьей,
О том, что любовь не бывает двуличной.
Потом прочитал я «Дорогу ветров»,
Где много степей и сыпучих песков,
Где вечно присутствует сложность раскопки.
Монголия – странное место на карте,
И чья она ныне, и кто там у власти?
Вся жизнь наша - чудо, вся жизнь наша – тайна,
Рожденье и смерть, и любовь – неслучайны.
Роман «Час быка» прочитал я недавно.
Фантазия там и мудра, и забавна.
На Тормансе – древней планете мучений
Земляне гуляют, ища приключений,
Там раннюю смерть во дворцах воспевают,
До сотенки лет там едва доживают.
Там мнимая власть над природой – инферно,
Храм времени выстроен там непременно.
Там есть академия Счастья и Горя;
Природа, как зал автоматов игорных;
Планетой той правит диктатор Неряха
С женою коварной по кличке Ян Яха.
Там много есть мыслей, мне всех их не счесть,
Но главная, в общем-то: время – есть смерть;
Под каждым цветком там змея притаилась,
И много такого, что нам и не снилось!
Я так начитался фантазий всех этих,
Что ангел привиделся вдруг на рассвете;
И он рассказал мне, что был на планете,
Где счастливы все и живут словно дети,
Где люди подобные нам обитают,
Живут бесконечно и горя не знают.
У них нет металлов, ни нефти, ни газа –
Цветут там цветы в изумительных вазах,
Деревья там выше, и Совесть – хозяин.
Там в год собирают по сто урожаев!
Там радуги с музыкой, певучие рыбы,
Там сбылись мгновенно любые мечты бы!
Летают там все на воздушных бипланах,
Компьютеры носят с собою в карманах,
Кино проецируют ночью на небе
(Ах, там погулять хоть полгодика мне бы),
Живут в небоскрёбах стеклянных, огромных
И там заведений премного игорных,
А смерть там покоится в смертомузее,
Лежит в саркофаге, и все ротозеи
С окрестных планет посмотреть прилетают
И вечную жизнь только там обретают.
У тех обитателей руки короче,
А череп побольше и взгляд чуть позорче,
И зла у них нету ни капли в помине,
Добро и Любовь у них царствуют в мире…
И ангел, который мне это пророчил
Был ликом похож на Ефремова очень!
Ю. Антонов. Вырица










К юбилею Вырицкой Казанской церкви. Документы

Больше года мы дожидались выпуска правлением храма на Ракеевской улице юбилейного труда по истории храма и судя по всему это дело будущих настоятелей. Про вышедший недавно сборник «Святые лики Вырицы» мы не можем сразу и без с дружелюбной улыбки писать, поэтому рецензию, где на обложке даже не Вырица - перенесем.
Чего стоит и строчка на титульном листе духовного издания: «Книга издана в рамках реализации государственной программы Ленинградской области устойчивое общественное развитие Ленинградской области». Батюшки родные, сами то читали абракадабру хоть при свечах? Дальше идет окончательный отказ от христианства с фарисейским текстом: «Все права на данное издание принадлежит комитету по местному самоуправлению межнациональным и межконфессиональным отношениям ленинградской области. Воспроизведение материала в любой его форме…. (лень цитировать этот бред полностью) … будут преследоваться в области авторского права».
М-ммм. Статья драгоценного нашему сердцу Попова вышла более десяти лет назад и кочует в интернете. Вторая работа одной страницей текста относясь к Вырице представляет собой дипломную работу Пудовой, у нее и подписи академические для новой книги не изменены под картинами. Догадайтесь, что НГЧМ» – Нижегородский Государственный художественный музей. Раз «Святые лики», - это не книга, а научный сборник, то должны быть еще статьи и документы. Чтобы их было побольше мы начнем их рассылать по свету без всяких преследований.
Христа Ради!





Статья из газеты "Уездные вести" 20-26 марта 2015
Ну, дорогие друзья, дачу сожгли, а земля ее выставлена на продажу. Напомним порядок обмана населения всякими увещеваниями после пожара.
-
На второй день в вырицком доме Культуры, чтобы не было народного протеста, глава района т. Любушкина объявила: что дача будет восстановлена (зафиксировано).
-
Начавшееся недоразумение с названием Бумагина-Ефремова подчеркивало, что культурой и архитектурой руководят в краю остолопы. Но, было проще признать, ефремовский берег Михайловки – бумагинским, чтобы пафос пожара дачи отца великого вырицкого писателя отпал. Выяснилось в документах, что где-что в Дачной местности Вырица 13 или 19 века – никто не знает, кроме историков, которых просто не хотят пускать на свой рынок совести и недвижимости. В результате, те кто вынужден лебезить перед безответственными волостными управителями – хором стали кричать и публиковать: «Бумагина-Бумагина» дача, хотя это название основано на сообщении пьяного сторожа Рашиду Ганцеву много лет назад. Теперь сторож!
-
По публикации Вы видите, это вообще центральная фигура сбора информации для год, как находящегося под следствием главы Вырицы Терешкина и шефа по культуре Х. Мкртчана из неместных.
Но, чем звонить по вопросам сохранения или использования памятника старины – сторожу, - власти могли набрать номер администрации фирмы Нева-Табак в интернете. Но почему то не сделали (тоже зафиксировано)!
Между прочим, предыдущий более трезвый сторож Арсенич – сразу давал телефон Натальи Орловой (директор Нева-Табак) и она приезжала с пирожными. Она мечтала передать Желтую дачу - вырицким культурным ценностям, взамен на официальное желание.
НЕ БЫЛО!!!
Есть 10 свидетелей, в том числе дядя главы администрации Кремля самого Нарышкина – Олег Иванович. Фотографии с ним и с госпожой Орловой в Желтой даче выложим (зафиксировано).
К идее передачи-дачи равнодушно отнесли начиная с Чернаковой. Госпожа Чернакова при встрече уж не помню, какого года, могла ограничить «Неву Табак» правом на землю, что, как она говорила и сделала.
4. Пожар уже был третьим по счету, и я лично просил всех и тогдашнего шефа по культуре Василия Панкратова помочь разобраться с дачей. Когда она сгорела, он как все сетовал, что погибла жемчужина, но забыл, что в моем телефоне осталась его смс-ка: "Вы это серьезно? Чиновники не занимаются созданиями музея, не смешите меня, Андрей". Как говорится: Панкратов мне друг, но истина дороже. По печальной иронии судьбы переписка велась из квартиры Ефремова в Москве в присутствии Таисии Ефремовой, готовой отдать на дачу весь интерьер кабинета великого ученого и писателя.
Вот так постепенно и разбивался круг людей озабоченных судьбой дачи на равнодушных чиновников (пять штук) и романтиков сохранения вырицкой старины и красоты.
Резюме.
Не понятно другое. Зачем писались литературные письма разным доброхотам, что Власть обещает сохранить участок за возрождением усадьбы в похожем архитектурном стиле?
И вдруг, тайно снять все ограничения по участку и выставить исторический участок на торги, даже не дожидаясь, когда улягутся страсти? Интересно, как будет разделена сумма между загадочным сторожем, злоумышленниками, парторгами района, и печатным станком «Уездных вестей»?







Дмитрий Симо
Воспоминания.
Покойного Дмитрия Кирилловича Симо многие знали, как ироничного писателя очерков на вырицком форуме под псевдонимом «Сторожил». Научное наследие его включает в себя несколько публикаций в разных альманахах и папки незавершенного. В основном это фамильные воспоминания где в родословном древе Дмитрия Кирилловича были: знаменитый литератор-националист М. Меньшиков и духовный соратник Иоанна Кронштадского священник Петр Адамович Симо, - оба новомученники всероссийские. В течении года обязуемся опубликовать заметки Сторожила по дачной и городской тематике края.
В Вырице я появился вскоре после окончания ВОВ. Было мне тогда лет 8-9. Появился, разумеется не один, а с родителями. Семья наша, вернувшись в конце 45-го в Ленинград из эвакуации, обнаружила, что старое жилье уже занято. Через несколько месяцев отцу, правда, дали комнату в общежитии. Но единственное окно этой комнаты выходило во двор-колодец, куда солнце не заглядывало никогда. И перспектив на улучшение не было никаких. А тут еще у меня обнаружился бронхоаденит, повлекший постановку на учет в тубдиспансере. Поразмыслив, родители решились на постройку собственного дома в пригороде. Тогда это был смелый шаг – при послевоенной-то общей нищете и безденежьи. В конце концов, выбор остановился на Вырице, где в это время купил дом дядя, брат моей мамы. Неподалеку нашелся свободный участок и для нашего будущего дома. Дядя приютил нас на время строительства, и мы не мешкая переселились в Вырицу – на свежий воздух и яркий свет!

Послевоенная Вырица походила скорее на очень большую деревню, нежели на поселок. А тем более на город, на звание которого Вырица претендовала еще аж в 1917 году. Улицы, с проезжей частью, полностью заросшей травой, практически полное отсутствие автомобилей. Велосипеды – и те были редкостью. Тишь и благодать. Конечно, «я вам не скажу за всю Вырицу», но так было в микрорайоне моего обитания – это улицы Ломоносова, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Крылова (литературный такой уголок), Воскресенская, Кноринская, Косинская… В общем, в районе 1-й платформы.После города Ленинграда «деревня» Вырица показалась просто райским местом. Пусть не было электричества, газа, водопровода. Но в детстве это как-то не слишком огорчало. Зато можно было гулять сколько влезет. А летом – даже ходить босиком! Не опасаясь при этом напороться на битую бутылку или консервную банку. Чисто тогда было на улицах, хотя централизованно мусор никто не вывозил. Потребление населения было минимальным и к тому же безотходным - каждую освободившуюся от содержимого бутылку или другую посудину народ норовил приспособить для какой-нибудь нужды (под керосин, например).Короче, очень я полюбил это дело – босиком ходить. До такой степени, что однажды даже в школу (в первые дни моей учебы в Вырице) пришел босым, в полной уверенности, что если тепло, то почему бы и не прийти. И очень удивился, когда учительница отправила меня домой обуваться. В школу я больше босым не приходил, но привычки этой не бросил. Родители мое босохождение приветствовали. И, думается, не только из соображений пользы для здоровья – ведь экономить приходилось на каждой мелочи. Но польза для здоровья несомненно была – через пару лет меня сняли с учета в тубдиспансере.


Учился я в школе №1, которая в те давние времена располагалась в историческом здании на Коммунальном проспекте. Приняли меня в 3-И класс. Не помню – был ли этот класс последним по счету среди 3-х классов, но даже и индекс “И” впечатляет. Такое количество классов, конечно же, было последствием недавней войны – в 45-м пошли в школу не только 7-летние, но и все те, кто не смог пойти учиться в военные годы. Правда, через 7 лет, когда мы добрались до 10-го, осталось всего 4 параллельных класса.Но тогда, в конце 40-х, школа была перегружена и работала в две смены. Мне повезло – несколько первых лет наш класс учился во вторую смену. Наверно, не всем – но мне это нравилось. Во-первых, утром не надо было вставать рано. Во-вторых, на последних уроках начиналось самое интересное. Ведь электричества-то не было, освещение было керосиновое. Ламп же (обычных 10-линейных) поначалу было мало – всего 4 на класс: одна на учительском столе и по лампе на каждой из трех колонок парт. Разумеется, на дальних партах читать и писать было весьма затруднительно. Поэтому нам разрешалось устанавливать на партах индивидуальное освещение – свечи. Многие ученики (и я в том числе) приносили из дома разнокалиберные свечные огарки. Трудно это сейчас представить, но так было. Сидишь возле такого огарка, смотришь на огонёк, проволочкой регулируешь процесс горения, краем уха слушаешь учителя… Не правда ли, романтично? Во всяком случае, для меня это одно из самых ярких воспоминаний первых лет обучения в вырицкой школе. К сожалению, длилось это не долго - одну-две зимы, не более. Потом у школы нашлись средства для закупки новых больших ламп, которые уже подвешивались к потолку и устанавливались по стенам, обеспечивая достаточную и равномерную освещенность на всех партах. Надобность в свечах, увы, отпала…И еще одно воспоминание, связанное со школьными керосиновыми лампами – знакомство с новым, поразившим меня словом. Этим словом был глагол ПОЛЁГАТЬ. Употребляла его старушка из школьного техперсонала, обязанностью которой была заправка керосином этих самых ламп. Лампы же были подвешены достаточно высоко. Поэтому она всегда просила кого-нибудь из учеников забраться на парту и полёгать лампу, т.е. оценить заполненность лампы керосином, приподняв ее (лампу) и прочувствовать – достаточно ли она лёгкая, надо ли подлить керосинчика. Не слышал я этого слова ни раньше, ни после. Но до сих пор удивляюсь – какое оно простое, но емкое. И употребляю его иногда при подходящем случае. Жаль, что его нет в словарях. По крайней мере в тех, в какие я заглядывал.
Но каково было возвращаться домой после 2-й смены? Ведь темнота в октябре, ноябре и далее, пока не выпадал снег, была кромешная. Хорошо, если Луна была на небе. Но, как известно, не всегда это бывает. В домах, конечно, окна кое-где светились. Но и только. Дорогу они не освещали ничуть. Карманные фонарики были редкостью, не вдруг-то их можно было купить. Да и не все могли позволить себе такую роскошь.Не помню, чтобы родители кого-то встречали. Правда, и о маньяках что-то слышно не было. Но все-таки было страшновато. Чаще всего ходили группами – всегда находились соседи-попутчики. Хорошо еще, что наш микрорайон был недалеко от школы. Плохо – что путь проходил через еловый квартал (тот самый, где теперь находится новое здание школы). Пересекали мы его по диагонали (да и сейчас там тропа народная). Казалось бы, можно было бы и обойти этот лес по катетам улиц Л. Тостого и Чехова. Но куда там… Это же дальше! И мы упорно ходили кратчайшим путем… В те времена ели были, конечно, пониже, но зато было их побольше. И не было никаких танцплощадок и кочегарок. Короче говоря, лес был вполне дремучим.В один из таких переходов в чью-то голову пришла мысль – а как бы было хорошо идти по этому лесу с факелом в руках. Я с радостью взялся за реализацию проекта и уже утром следующего дня соорудил первый образец с применением подручных материалов – битума и все того же керосина. По дороге в школу припрятал факел под одним из надканавных мостиков на Сквозной (ныне Ефимова) улице, а вечером состоялись натурные испытания, прошедшие довольно успешно. Хотя в конструкцию и пришлось внести некоторые изменения, улучшающие потребительские свойства изделия. Но недолго продолжались наши факельные шествия. Через несколько дней подловил нас в лесу какой-то мужик, отобрал и затоптал факел. И долго ругался, кричал, что пожар мы устроим и т.д. и т.п. Может, и прав он был…А вскоре карманные фонарики все же начали входить в обиход.
Про вырицкую школу №1, конечно, можно (и даже нужно) было бы написать еще очень много. У нас были замечательные учителя. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых. Очень хотелось бы, что бы память о них сохранилась подольше.
После двух лет обучения в ленинградсих школах, о которых в памяти осталось лишь ощущение какого-то беспросветного мрака, вырицкая школа показалась местом светлым и радостным. Не потому ли, что обучение в ней было совместным, тогда как в больших городах в то время существовали мужские и женские школы? Наверно, не только поэтому, но и это обстоятельство имело немаловажное значение. Про классическое дерганье девчонок за косички не помню. Должно быть, не обходилось без этого – но на переменах. А вот на уроках практиковалось другое развлечение. Нужно было уловить момент, когда впереди сидящая одноклассница подогнет ноги под сиденье парты. И тогда, не мешкая, зацепить ее ногу своей ногой. Парты стояли вплотную и для такой операции не требовались особо длинные ноги. Освободиться от такого захвата было не так просто.Но и девчонки в долгу не оставались. Очень хорошо запомнилось, как одна из них запустила в меня чернильницей-непроливайкой, которая в действительности оказалась не такой уж непроливаемой. Чернильное пятно было что надо. Прямо на животе. Но вот за что мне досталось – не вспомнить никак.Вообще-то непроливайки появились не сразу. Поначалу в отверстие на парте вставлялся простой стаканчик, куда и наливались чернила. Всегда одного цвета – фиолетового. В эту-то чернильницу и приходилось поминутно (при письменных работах) окунать перья наших пишущих инструментов. В младших классах полагалось использовать исключительно перо №86, обеспечивающее изображение линий разной толщины. Вот уж морока была! Теперь бы кого заставить. Но тогда это было в порядке вещей. Только в старших классах разрешили писать “уточкой”. Вероятно, у этого пера тоже был свой номер, но все называли его вышеуказанным ласковым именем. С “уточкой” жить стало лучше и веселее.А об авторучках (хотя и были они давным-давно изобретены) никто и не мечтал.


В пору уборки урожая мы, как и подавляющее большинство советских людей, выезжали на колхозные и совхозные поля. Наша школа была “прикреплена” к полям, прилегающим к деревне Ковшово. На поезде ехали до Красниц, а далее топали пешком. Убирали в основном картошку, но иногда и более лакомые овощи – турнепс, брюкву и даже морковь. Хотя первые два корнеплода относятся к кормовым культурам, но и для нас они были вполне съедобны. И служили некоторой компенсацией за наши трудовые свершения. Поездки эти были полезны также и в познавательном плане, там мы воочию знакомились с жизнью деревни. Незавидной, надо сказать, жизнью. Очень бедной даже на фоне нашей, совсем не богатой жизни. Там, к слову, пришлось увидеть в действии соху, эдакий самодельный деревянный плуг.В одну из таких поездок случилось небольшое приключение. Выполнив норму, наш класс отправился в Красницы. У меня в кармане лежал какой-то корнеплод, припасенный на дорожку. Дорога шла вдоль реки Суйды и в одном месте приближалась к одной из излучин. В этом месте я решил помыть в речной воде свой трофей, но место оказалось неудачным – очень скользким. Не велика речка Суйда, но скрыла меня с головой. На берег я, конечно, выкарабкался, но без корнеплода. Да он меня уже и не интересовал – не до него было. Хорошо еще, что шел я в конце нашей растянувшейся колонны, и классная руководительница не видела моего заплыва. Пришлось бежать в кусты, где мы с приятелем минут 10 отжимали всю мою амуницию. А потом снова бежать - догонять класс. Но кончилось все благополучно, к поезду мы успели. Свою же задержку объяснили сбором рябины. Классная руководительница лишь поворчала укоризненно, но следов купания не заметила. Видно, качество отжима было отличное. Так и добрался я до дома - в мокром компрессе. А надо сказать, что день был совсем не жаркий. Однако же, не простудился…Но не все поездки на поля завершались столь благополучно. Однажды случилось трагическое происшествие – погибла ученица младших классов. Класс тоже возвращался домой, и уже собрался на красницком междупутьи в ожидании нужного поезда. Но вместо него прошли два транзитные. Один чуть раньше другого. И вот машинист паровозапервого состава не придумал ничего лучшего, как пошутить – испугать собравшихся детей струей выпущенного пара. Результат превзошел его ожидания. Дети бросились бежать в другую сторону, к другому пути. Тут и подоспел второй поезд…Говорили потом, что машиниста судили и дали срок.
Как ни хорошо было в школе, но каникул все всегда ждали с нетерпением. Особенно летних. И в свой срок долгожданное лето приходило, наступала пора активного отдыха. И мы отдыхали на полную катушку. Никаких каруселей и им подобных аттракционов в Вырице и в помине не было. Зато было множество игр, в которые мы играли с увлечением и полной отдачей сил. Лапта, рюхи (городки), поп-загоняла, штандер, чижик – все эти игры были для нас не устаревшими книжными понятиями, а повседневными занятиями. Все они не требовали сложного инвентаря – нужны были лишь палки да мячики. Сколько перепилили мы палок, изготавливая биты и рюхи… Куда только ни загоняли попа-загонялу… В какие только огороды не забивали (играя в лапту) мячики…А уж если под рукой не оказывалось ни палок, ни мячика – не гнушались играть в лошадки (коняшки тож). Это когда изображающий лошадь берет на закорки всадника, и две таких пары сражаются – всадники пытаются свалить друг друга на землю (а если и лошадь упадет – то и того лучше). Обладая повышенной устойчивостью, я всегда был лошадью, и наша пара проигрывала очень редко.Играли даже в такую детскую игру как фантики, в обе версии – настольную (это преимущественно в школе) и напольную (наземную). Здесь тоже у меня было преимущество – хорошо оттопыривался большой палец руки, составляя с безымянным прямую линию.Практиковалась также игра в ножички, требующая умения бросать нож в землю таким образом, чтобы он втыкался лезвием и не падал.Конечно, играли и в футбол. Но тут проблемы были с мячом. Далеко не всегда он имелся в наличии, ибо стоил ощутимых денег, а служил недолго.Короче, выбор игр у нас был обширный. Но лично на меня произвела наибольшее впечатление и на всю жизнь запомнилась игра с милым названием “чижик”. Собственно чижик – это круглая палочка с диаметром 2-3 см и длиной 10-15 см. Оба конца заострены.Кладут этого чижика на землю и бьют палкой сверху вниз по кончику. При удачном ударе чижик взлетает вверх, интенсивно вращаясь. Думаю, что в тот раз игра пошла не совсем по правилам. Чижик исправно взлетел, но игрок, поднявший его в воздух, еще и ударил по нему, уже порхающему, палкой, придав ему горизонтальную скорость. Волей случая траектория его полета вознамерилась пройти через мой глаз. И чижик долетел-таки до намеченной цели. Ну, и орал же я тогда! И не столько от дикой боли (а боль действительно была дикая), сколько от осознания, что одного глаза у меня уже не будет. Я был уверен в этом – ведь концы у чертова чижика были такие острые… Но, к счастью, чижик ударился плашмя. Может и впрямь некий ангел-хранитель помог – подкрутил чижика на четверть оборота… Правда, лучше бы он траекторию отклонил сантиметров на десять. Впрочем, кто знает – какие там возможности у ангелов-хранителей.Так или иначе, но я остался двуглазым, а в нашей округе любители играть в чижика полностью перевелись…
Конечно, не одними только играми было заполнено наше время. Каждому давались какие-то домашние поручения. Я, например, обеспечивал водоснабжение. На нашем участке колодец появился далеко не сразу, и немалое количество лет пришлось ходить за водой к соседям – метров за 100-150. И летом, и зимой. На первых порах с маленькими ведрами, а потом и с обычными. Ну, а летом – прополка, окучивание картошки (чуть ли не весь участок ею был засажен). А осенью – участие в сборе урожая. Все эти занятия не слишком нам нравились, но и тут мы старались поиметь хоть какой-то интерес. Помню, в одно лето ботва на картошке удалась такая густая и высокая, что образовала сплошной зеленый покров. Так мы повадились ползать между бороздами как по тоннелям. К тому же наперегонки. Можно себе представить – какой вид у нас был на финише.Еще одной обязанностью была вечерняя встреча коз и их препровождение в родной хлев. Мои родители коз не держали, но у наших родственников всегда было 3-4 козы. Вообще-то они (родственники) пробовали держать и корову, и поросенка откармливать – но не долго. А вот козы прижились. В нашей округе было много коз, набиралось на целое стадо. По утрам стадо собиралось пастухом (тут наша помощь не требовалась) и угонялось в лес – за 1-ю платформу. Где-то тут, между 1-й и 2-й платформой они и паслись целый день.Кноринская улица была скотопрогонным трактом. На участке между поселковской ж.-д. веткой и Сиверским шоссе она была вытоптана козами до полного безобразия, никакого щебеночного покрытия ведь тогда не было. В условленный час встречающая публика собиралась в начале Кноринской улицы, у ж.-д. насыпи (именно оттуда в то время шел счет домов). Через некоторое время стадо переваливалось через насыпь и тут нужно было найти своих коз и вести их до дому, не давая ответвляться куда не положено. Впрочем, обычно козы сами шли домой, причем кратчайшим путем. Поначалу трудно было находить наших коз среди козьей толпы, но очень скоро мы научились узнавать их безошибочно. Звали их Крошка, Белка и Чернушка. Это был основной состав, иногда добавлялись их подросшие козята. Особенно хорошо запомнилась Крошка. Она была самая старая, самая рогатая. Когда она возвращалась из лесу, ее большое вымя было переполнено молоком, соски болтались из стороны в сторону, выбрасывая струйки молока. Вели мы наше министадо вдоль всей Кноринской улице, почти до самого ее конца (теперешнего начала) и сворачивали на Ломоносовскую через небольшой лесок (теперь на его месте 4 дома разместилось). Однажды, при проходе через этот лесок одному из нас захотелось пописать. Ну, дело житейское, захотелось и захотелось – нет проблем. И не запомнилось бы это никогда, если бы одна из коз вдруг не заинтересовалась этим процессом. Она подбежала к струе и стала жадно ее пить, стараясь чтобы ни одной капли на землю не упало. Оказалось, что и другие козы непрочь подкрепиться таким образом. С тех пор встреча коз сделалась для нас более увлекательной. Мы старались к вечеру накопить в себе побольше “живительной влаги”, и нам это удавалось - на радость нашим подопечным. Но всему приходит конец. Как-то один из таких сеансов массового спаивания коз увидела проходящая мимо тетка и устроила нам разнос, пообещав все рассказать родителям.Вот так наши козы остались без десерта…Годы спустя, читая какую-то книгу из жизни народов Севера (может быть – “Алитет уходит в горы”?), я наткнулся на эпизод, в котором хозяйка чума утром выносит ведро с накопившейся за ночь мочой, и олени тут же ведро опустошают. Сразу вспомнил историю с козами и решил, что ничего предосудительного мы тогда не делали…
Пожалуй, самым любимым летним занятием было купание в Оредеже. Хотя и запретным. Без сопровождения взрослых ходить на реку и тем более купаться нам не разрешалось. Но у взрослых, как правило, времени на такие прогулки не находилось. Поэтому, слегка научившись держаться на воде, мы решили, что уже сможем обойтись и без сопровождения. Главное – чтобы никто об этом не узнал. Главное – помнить, что после отлучек нужно появляться дома с сухими волосами и трусами. И эту проблему мы решали успешно.Купались поначалу на Бородавке, прямо напротив улицы Гоголя, которая в те давние времена доходила до самой речки. Называлось то место “лягушатником”. Никаких купален еще устроено не было, речка была в первозданном виде. Для малолеток это действительно было идеальное место. Кое-где можно было перейти на другой берег вброд, а чуть выше по течению – было достаточно глубоко (скрывало с ручками).Вот тут-то мы и учились плавать. Тут-то и глотали многочисленные “огурчики”. Тут-то посиневшими и дрожащими вылезали из воды и плюхались на теплый песок.Шли годы, канули в прошлое запреты, появлялись другие любимые купальные места: между Бумагиным и ж.-д. мостами, Мельничный ручей, Шудибель, съезд с М.Расковой…Но, если теперь речь заходит о купании на Оредеже, в памяти неизбежно всплывает только старый добрый лягушатник на ул. Бородавкина.
Железная дорога, конечно же, занимает не малое место в воспоминаниях. Поначалу были лишь редкие поездки с родителями в Ленинград и обратно с обязательным непрерывным глядением в окно, за которым всегда удавалось усмотреть что-то новое, необычное. Да и сами вагоны были интересны. В ту послевоенную пору пригородные поезда представляли собой некую “сборную солянку” – из каких только вагонов они не составлялись. Наверно, не все они представлены в нынешнем Паровозном музее. Очень много было устаревших вагонов дальнего следования, со спальными и багажными полками. Как правило, полки эти тоже занимались пассажирами. Помню, как однажды один такой полочный пассажир попытался затянуть к себе на полку нашу авоську с продуктами, но был пойман с поличным.Во время войны поселковская ветка была разобрана, в конце 40-х поезда ходили только до Вырицы. Нам-то, “первоплатформенникам”, это не доставляло особых неудобств, но вот поселковским жителям приходилось туго. Вскоре, однако, ветка была восстановлена. При этом была обновлена насыпь – покрыта толстым слоем песка (то ли щебень был в дефиците, то ли по технологии так и нужно было). Так или иначе, но в нашей команде появилось новое развлечение. На 1-й платформе мы встречали поезд, прибывающий из Ленинграда, рассаживались на ступеньках вагонов и ждали его отправления в сторону Поселка. Игра была простая – кто позже всех спрыгнет с подножки. Как известно, паровоз набирает скорость медленно, поэтому до прыжка мы успевали проехать довольно большое расстояние. А как приятно было приземляться в мягкий сухой песок! Надо заметить, что машинист не мог видеть наши кульбиты, т.к. сразу за 1-й платформой путь поворачивает налево, а прыгали мы с правой стороны поезда. Но не слишком долго мы развлекались таким образом – то ли железнодорожники щебенки подсыпали, то ли опять кто-нибудь застукал. Уже не помню.Тем не менее желание ездить на подножке не пропало начисто. Много позже, когда я уже ездил в город самостоятельно, этот способ езды в народе практиковался довольно широко. Как и езда на крыше. А что было делать? Вагоны, как правило, были переполнены. В них и сидеть, и стоять было тяжело. Особенно в летнюю жару. Вот народ и устраивался, кто как может. На крышу лезть я, правда, не рисковал. Но, на подножках, бывало, ездил. Хотя чаще всего пользовался переходными площадками. В тех вагонах переходные площадки были совершенно открытые - лишь перильчики по пояс. Зато воздуху свежего было полно, а претендентов на это место – немного. Так вот и ездили, пока в в начале 60-х не пустили электрички.
Какие же мальчишки не любят пострелять? Наверно, таких не бывает. По крайней мере, в Вырице они не водились.В младших классах процветала стрельба жеваной бумагой из трубочек. Оружие малогабаритное, доступное, безопасное, почти бесшумное, но довольно-таки прицельное. Даже и девчонки некоторые не могли удержаться, чтобы не попробовать пострелять. Правда, не так просто в те времена было найти подходящую трубку - но только до поры созревания всевозможных «дудочных» растений. Тут уж каждый мог подобрать себе трубку по вкусу – любимого калибра и нужной длины. И уж совсем становилось хорошо, когда набирали должный размер ягоды рябины. В сентябре уже не нужно было жевать бумагу, карманы были полны гроздями рябины, скорострельность увеличивалась неимоверно – мастера умудрялись стрелять даже очередями. Хотя случались и осечки – рябинина заклинивалась в стволе. Сказывалась конусообразность дудочного ствола, да и ягоды не были калиброваны по размеру. Поэтому приходилось иметь при себе шомпол.Но в классах постарше интерес к «плевалкам» прошел, в моду вошли рогатки. Впрочем, рогаток как таковых большей частью и не было. Была просто резинка (зачастую добываемая из трусов) с петлями на концах. Петли надевались на два пальца, и оружие было готово к стрельбе. В школе стрельба (друг по другу) велась исключительно бумажными U-образными скобками, проволочные считались уже серьезным боевым оружием. Но сделать бумажную скобку не так-то просто. Ведь надо изготовить ее достаточно тяжелой и не лохматой, иначе она будет лететь недалеко и по непредсказуемой траектории. Без ложной скромности могу сообщить, что в нашем классе никто лучше меня не умел делать такие прочные и дальнобойные бумажные скобки. Нужно было найти бумагу подходящего сорта, сделать заготовку надлежащего размера, в меру послюнить, скатать в плотный цилиндрик и, наконец, согнуть его до правильной формы. Изготовленные с таким трудом скобки были вполне пригодны для многократного использования. Иногда я их даже изготавливал на заказ (совершенно безвозмездно!).Из этой рогаточной эпохи вспоминается такой эпизод. Зимний вечер, школа, урок рисования. Сидим себе при свете керосиновых ламп и потихонечку в силу своих технических и творческих возможностей что-то малюем. И вдруг вдребезги разлетается стекло керосиновой лампы на задней стене класса. Такое, вообще-то, с ламповыми стеклами иногда случалось самопроизвольно, но не с таким звоном. Поэтому не мудрено, что учитель рисования (мужчина, между прочим) заподозрил неладное. Помню, как он рванулся к месту аварии, сдвинул последнюю парту средней колонки (на которую и посыпались осколки) и после довольно продолжительных поисков (в полутьме же) нашел-таки вещдок – рогаточную скобку. Притом проволочную. После краткого дознания был выявлен и виновник торжества. Им оказался один из штатных классных хулиганов. Но каков был выстрел! Стрелок-то сидел на первых партах. Надо ж было уловить момент, когда учитель его не видит, прицелиться и с первого выстрела поразить злосчастную лампу. Поистине снайперский выстрел!
Нельзя не вспомнить и о другого рода стрелялках, относящихся уже к разряду огнестрельных. Простейшие из них по сути дела производили лишь шумовой эффект. Такими были «стреляющие ключи». Для этой цели могли использоваться не все ключи, а только те, у которых цилиндрическая часть была высверлена на некоторую глубину, т.е. представляла собой трубку. Устройство было предельно простым – в дополнение к ключу нужно было всего лишь подобрать гвоздь с диаметром несколько меньшим диаметра ключевого отверстия да найти веревочку длиной с метр. Заостренная часть гвоздя отпиливалась под прямым углом, а веревочкой ключ и гвоздь связывались в единое целое – один конец привязывался к проушине ключа, а второй конец закреплялся на гвозде вблизи его шляпки. Заряжалось это «страшное» оружие простыми спичками (обычно их удавалось доставать без особого труда). Несколько спичечных головок соскабливались в отверстие ключа и тщательно растирались гвоздем (как пестиком в ступке). После завершения растирания гвоздь оставался вставленным в ключ. А вот дальше было не все так просто. Нужно было, взявшись за середину веревки, сильно размахнуться и ударить вышеописанной конструкцией по чему-нибудь массивному и твердому (стена, столб, дерево), но так, чтобы о преграду ударилась шляпка гвоздя, и в момент удара направление вектора скорости центра масс совпадало с осью гвоздя. Конечно, никто из любителей этого развлечения понятия не имел ни о векторах, ни о центре масс. Но некоторые ловкачи, тем не менее, умудрялись выполнять все как надо и добивались неплохого результата. Выстрел получался весьма звучным. Ключ слетал с гвоздя, но, будучи привязанным, далеко улететь не мог.Однако техническая мысль не дремала. Очень скоро конструкция была существенно усовершенствована и упрощена. Ключ остался. Остался и гвоздь, но был согнут в виде буквы Г. А вместо веревки появилась резиновая петля, проходящая через проушину ключа. Как и ранее спичечная масса растиралась гвоздем до готовности, а затем петля натягивалась (с заметным усилием) на загнутую часть гвоздя (возле шляпки). В таком состоянии стрелялка могла совершенно безопасно лежать в кармане и ждать своего часа. Чтобы привести ее в действие достаточно было оттянуть гвоздь (почти вынуть). В этом положении гвоздь, как правило, заклинивал. Но стоило надавить на резинку в боковом направлении, как гвоздь соскакивал и с силой ударял по спичечному заряду. Особенно интересно было стрелять в темноте, в этом случае наблюдался и световой эффект.Имея такой пугач в кармане, уже не так страшно было возвращаться из школы после второй смены. Какое-то чувство защищенности появлялось…Конечно, современные дети, избалованные всевозможным стреляющим китайским ширпотребом, только посмеялись бы над нашими жалкими стрелялками. Если бы их увидели. Но, вероятно, их уже ни на каком чердаке не отыщешь…
(продолжение следует...)